КНИЖНАЯ ПОЛКА
СКАЧАТЬ КНИГИ
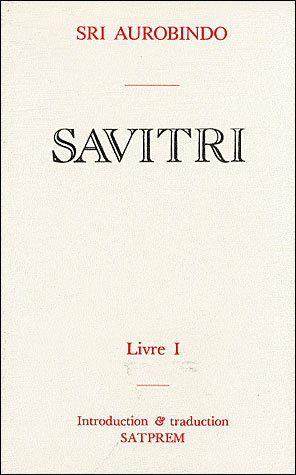
|

ИСТОРИЯ САТЬЯВАНА И САВИТРИ
История Сатьявана и Савитри передается в Махабхарате
как история супружеской любви, победившей смерть.
Но эта легенда, выраженная средствами человеческой
истории, является лишь одним из многих символических
мифов ведийского цикла. Сатьяван — это душа, несущая
божественную истину бытия в самой себе, но низведенная в объятья
смерти и невежества; Савитри — это Божественное Слово,
дочь Солнца, богиня высшей Истины,
которая нисходит вниз и рождается, чтобы спасать; Асвапати,
Господин Коня, ее человеческий отец, также и
Господь Тапасьи, концентрированной энергии духовного
устремления, которая помогает нам подняться из смертных
в бессмертные планы; Дьюматсена, Господь сияющих
Воинств, отец Сатьявана, это — Божественный Ум, который
здесь пал и ослеп, потеряв свое небесное царство видения
и через это — свое царство славы. И все же — это
не просто аллегория, характеры — это не персонифицированные
качества, но воплощения или эманации живых
и сознательных Сил, с которыми мы можем войти в конкретный
контакт, и они могут принимать человеческие
тела, чтобы помочь человеку и показать ему путь, ведущий
из его смертного состояния к божественному сознанию
и бессмертной жизни.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Природу этой критики не следует толковать превратно.
Именно из-за того, что достоинства "Савитри" оценивались превосходно,
всякий кажущийся недостаток, неважно, что он незначителен, в изобилии
великолепия вызывал многозначительные замечания, будто бы
Шри Ауробиндо не просматривал свою работу, чтобы привести ее,
по его же выражению, к абсолютному совершенству, до ее публикации
и до того момента времени, когда она предстанет перед строгой
критикой не ауробиндовского толка. В данном случае критик был
озабочен тем, что на солнце "Савитри" не должно быть пятен. Целью
также было выяснить важные проблемы, связанные с особым
видом поэзии Шри Ауробиндо, к которой стремились и некоторые
его ученики. Зная дух и цели этой критики, Шри Ауробиндо приветствовал
ее и даже просил о ней. Во многих случаях — и здесь
приводится большая их часть — он энергично защищался, но иногда
он охотно соглашался ввести маленькие изменения. Говорят,
один раэ он улыбнулся и сказал: "Теперь он удовлетворен?" К сожалению,
возможность обсудить каждую часть поэмы не появилась, и
поэтому мы имеем лишь несколько сделанных им психологических и
технических разъяснений о его искусстве.
ИЗ НЕКОТОРЫХ ПИСЕМ ШРИ АУРОБИНДО
Что касается разной критики, содержащейся в вашем
письме, я могу многое сказать; некоторые из этих критических
замечаний ставят вопросы техники мистической
поэзии, о которой я хотел бы написать во введении к "Савитри",
когда она будет опубликована, и здесь я могу также
кое-что сказать об этом.
Быстрая смена одного образа другим — это типичная
особенность "Савитри", как и вообще большей части мистической поэзии.
Здесь я строю все время длящуюся одну и ту же картину зари с
помощью одного-единственного
непрерывного образа или вариации одного и того же образа.
Я описываю подвижную смену сцен, наслаивал их одну на
другую. Сначала — черное спокойствие, затем — настойчивое
прикосновение, далее — первая "красота и чудо",
ведущие к волшебным вратам в "светлом закоулке".
Потом приходит конец тьме; причем используемое сравнение
(" спадающий плащ") предполагает быстрое изменение.
Затем в результате изменения просвет превратился
в широкий светящийся разрыв: если вы хотите быть логичными,
то можете рассматривать просвет как дырочку
в "плаще", которая становится большим разрывом. Далее
все переходит в "короткий непрерывный знак", скольжение
цветов, затем — вспышка и осиянная аура. В этой
быстрой смене сцен вы не можете связать меня логической
цепочкой образов или классической монотонностью.
Мистическая муза — это, скорее, вдохновляемая вакханка,
пьющая вино Диониса, чем обычная домохозяйка.
Опять же, вы серьезно хотите, чтобы я дал детальное
научное описание земли, находящейся наполовину во тьме,
наполовину в свете, и, таким образом, испортил импрессионистский
символ; или же вернулся к пониманию земли
в виде плоской, неподвижной поверхности? Я не пишу
научный трактат, я выбираю определенные идеи и выражения,
чтобы сформировать символ преходящих сумерек
души и Природы, которые временному ощущению, пойманному в Ночи,
кажутся вселенскими и вечными. Тот,
кто потерялся в этой Ночи, не думает о другой половине
земли, полной света; для него все — это Ночь, а земля—
покинутый странник в томительной тьме. Если я пожертвую
этой выразительностью и образом земли, кружащей
сквозь темный космос, то можно было бы оставить и весь
символ, т. к. первый является частью последнего. А в
действительности, здесь земля именно в своем кружении
выходит в сумерки и выходит из тьмы ко свету. Вам надо
взять идею целиком, во всех ее переходах, а не заостряться
на одной детали со слишком буквальной настойчивостью.
В этой поэме я постоянно представляю то одно частное видение
жизни, то временно другое, как будто это было бы
целым, чтобы представить полный смысл опыта тем, кто
связан каким-то конкретным видением, например,
материалистической концепцией и восприятием жизни; но если
некто обвиняет меня в философской несостоятельности, то
это лишь значит, что он не понимает техники Сверхума
(Global Mind) в интерпретации жизни.
Далее я перехожу к отрывку, который вы так яростно
атакуете: о Несознательном, которое пробуждает Неведение.
Во-первых, слово "бесформенный", действительно,
неполновесно, не столько из-за какого-нибудь повторения,
сколько потому, что это — не то слово, идея, и я сам не
был удовлетворен им. Я изменил отрывок так:
Then something in the inscrutable darkness stirred,
А nameles movement, an unthought Idea
Insistent, dissatisfied, without an aim,
Something that wished but knew not how to be,
Teased the Inconscient to wake Ignorance.
Во мраке шевельнулось что-то вдруг,
Безумная Идея, чей-то жест,
Настойчивый, бесцельный, недовольный—
Нечто хотело быть, не зная как,
И на невежество толкало Бессознание.
Но "толкание" Несознательного остается, и, очевидно,
вы думаете, что дразнить нечто столь бестелесное и нереальное
как Несознательное — это дурной поэтический
вкус. Но здесь возникает несколько фундаментальных вопросов.
Во-первых, являются ли такие слова, как "Несознательное"
и "Невежество", обязательно абстрактным
техническим жаргоном? Если это так, то разве такие слова,
как сознание, знание и т. д., не подпадают под тот же
запрет? Означает ли это, что они — абстрактные философские
термины и не могут иметь действительного или
конкретного содержания, не могут представлять того, что
человек чувствует, ощущает или с чем он должен часто
сражаться, как с видимым врагом? Несознательное и Неведение
могут быть просто пустыми отвлеченностями и
могут быть опущены как неподобающий жаргон, если человек
еще не столкнулся с ними или не окунулся в их темноту и
бездонную реальность. Но для меня они — реальность,
конкретные силы, сопротивление которых присутствует
везде и во все времена, во всей их грандиозной и
безграничной массе.
На самом деле, когда я писал эту строку, то не намеревался
поучать философии или настаивать на неподходящей
метафизической идее, хотя идея и могла там подразумеваться.
Я представлял нечто для меня осязаемое и как
бы психологически и духовно конкретное. Несознательное
постоянно присутствует в песнях Книги Первой:
Opponent of that glory of escape,
The black Inconscient swung its dragon tail
Lashing а slumberous Infinite by its force
Into а deep obscurities of form.
Освобождения славного такого враг
Свой Бессознание изогнуло черный хвост
Вгоняя дремлющую Бесконечность
В глубокий сумрак форм...
Здесь также можно было бы вычитать некую метафизическую идею,
находящуюся внутри или за видимым. Но
делает ли это приведенные строки техническим жаргоном,
а все это — незаконной мешаниной? Для моего поэтического
ощущения это не так. Но вы могли бы сказать: "Но
это так для немистического читателя, а это именно тот
читатель, которого вы должны удовлетворить, ибо именно
для среднего читателя пишете вы, а не только для себя
одного". Но если бы я должен был писать для обычного
читателя, я бы не смог написать "Савитри" вообще. На
самом деле, именно для себя я и писал, а также для тех,
кто может отдаться субъективной материи, образам, технике
мистической поэзии.
Это — настоящий камень преткновения мистической
поэзии и, особенно, мистической поэзии такого рода. Мистические
чувства реальны, они есть, даже всегда присутствуют
для таких людей, сокровенны, истинны, что
обычному читателю представляется интеллектуальными
абстракциями или метафизическими спекуляциями. Мистический
поэт пишет об опыте, который чужд обычному менталитету.
Либо эти переживания ему непонятны
и, встречаясь с ними, он путается, двигается с трудом,
будто в темной бездне; или же он принимает их поэтические
фантазии, выраженные интеллектуальными образами.
Именно так некий критик осудил в "Хинду" такие
поэмы, как "Нирвана":
All is abolished but the mute Alone.
The mind from thought released, the heart from grief
Grow inexistent now beyond belief;
There is во 1, во Nature, known-unknown.
The city, а snadow picture without tone,
Floats, quivers unreal; forms without relief
Flow, а cinema's vacant shapes; like а reef
Foundering in shoreless gulfs the world is done
.
Only the illimitable Permanent
Is here. А Реасе stupendous, featureless, still
Replaces all, — what once was 1, in It
А silent unnamed emptines content
Either to fade in the Unknowable
Or thrill with the luminous seas of the Infinite.
Исчезло все, немого кроме Одного.
От мысли ум освободясь, от горя — сердце,
Растут вне бытия доверия сверх;
Нет "Я", известного-неведомого, нет Природы.
Бесцветный город, словно тень
Плывет, как нереальный, и дрожит;
И формы плоские плывут — кино;
Мир, словно затонувший в море риф.
Есть только Непрерывное без краю.
Без качеств, тих, громаден мир,
Он заменяет все: в нем "Я" былое—
Немая пустота без имени, готовая
В Непознаваемом угаснуть или
Дрожать в светящихся морях Бескрайнего.
и "Преображение". Он сказал, что
это просто интеллектуальные концепции и образы, и что
нет никакого религиозного чувства или духовного опыта.
И все-таки "Нирвана" была близка к адекватной транскрипции
главного опыта, которая могла бы быть дана,
отлитая человеческим умом относительно реализации, в
которой ум полностью безмолвствует и в которую вообще
никакая интеллектуальная концепция войти не может.
Для того, чтобы передать уму некое восприятие, образ
того, что выше мысли, надо было использовать слова и
образы. Непонимание критика было еще больше в строке:
Only the illimitable Permanent
Is here.
Очевидно, что он принял ее за технический жаргон, абстрактную философию.
Но такого не было; я чувствовал с
неодолимой живостью безграничность или, по крайней мере,
нечто такое, что не могло быть описано никаким другим
термином; и никаким другим описанием, кроме как
"Непрерывный", нельзя было назвать То, что только одно
и существует. Для мистика нет такой вещи как абстракция.
Все, что для думающего ума есть абстракция, имеет
конкретное содержание, более реальное, нежели чувственная
форма объекта или физического события. Для меня,
например, сознание — это сама сущность существования,
и я могу чувствовать его везде, как оно включает в себя
и проникает в камень с таким же успехом, как в человека
или животное. Движение, поток сознания не есть для
меня образ, но факт. Если я написал: "Его гнев карабкался
на меня потоком", то это для обычного читателя
будет просто образом, а не чем-то, воспринятым мною в
опыте; и все же я лишь описывал в точности то, что однажды
действительно случилось — поток гнева, ощутимый
и яростный, поднимавшийся по лестнице, обрушившийся
на меня, когда я сидел на веранде дома для гостей; причем
истинность позднее была подтверждена тем человеком,
который нес в себе это движение. >
Это лишь один эпизод, но все, что есть духовного и
психологичного в "Савитри" — того же характера. Что
делать при таких обстоятельствах? Мистический поэт
может лишь описывать то, что он почувствовал, увидел
в себе или других, или в мире, как будто он это прочувствовал,
увидел или испытал прямым видением, близким
контактом или отождествлением — и оставить среднего
читателя понять, или не понять, или неправильно истолковать,
в соответствии с его способностью. Новый вид
поэзии требует нового менталитета у воспринимающего
также, как и у писателя.
Другой вопрос — это место философии в поэзии или
имеет ли она там место вообще. Некоторые романтики,
кажется, верят в то, что поэт не имеет права думать совсем,
только видеть и чувствовать. Такое обвинение выдвигалось
против меня многими: что я думаю слишком
много и что, когда я пытаюсь писать стихами, приходит
мысль и отстраняет поэзию. Я, наоборот, придерживаюсь
того, что философия имеет свое место и может даже занимать
ведущее место наряду с психологическим опытом,
как это сделано в Гите.
<Это высказывание о роли мысли не должно быть воспринято в
противовес содержанию более раннего письма: "Думание —
это более не мой путь". То, что приходит сверху в безмолвный ум мистика,
как в случае поздней поэзии Шри Ауробиндо, может прекрасно
принимать и философскую форму. Здесь же говорится именно о присутствии
мыслительной формы в поэзии, а не об источнике, откуда
в конечном счете, она исходит, или процессе,
которым она входит в поэзию.>
Все зависит от того, как это
делается, будет ли это сухой или живой философией,
бесплодным интеллектуальным заявлением или выражением
не только живой истины мысли, но и какой-то красоты
этой истины, ее света или силы.
Теория, отворачивающая поэта от думания или, по
крайней мере, от думания ради мысли, происходит из
крайнего романтического склада; последний достигает
своего апогея, с одной стороны, в сюрреализме: "А почему
вы хотите от поэзии какого-то смысла?", а с другой стороны,
в хаусмановой (Housman) экзальтации чистой поэзии,
которую Хаусман описывает парадоксально, как некий вид
возвышенной нелепицы, которая вовсе и не апеллирует
к думающему разуму, но ударяет по солнечному
сплетению и пробуждает скорее витальные и физические
ощущения и отклики, нежели интеллектуальные. Конечно,
на самом деле, не они, но живость воображения и чувства
игнорируют позитивный взгляд ума и его логические
следствия; центр или центры, по которым эта поэзия ударяет,
не есть ум мозга, и даже не поэтический разум, но тонкий
физический, нервический, витальный или психический центр.
Стих, цитируемый им из Блейка, конечно, не
является нелепицей, но он не имеет позитивного и точного
смысла для интеллекта или поверхностного ума; он выражает
определенные вещи, которые суть истинны и реальны,
не нелепица, выражает глубокий смысл, который мы
ощущаем во всей его мощи с огромным волнением некой
глубокой эмоции; но любая попытка точного интеллектуального
высказывания стерилизует их смысл и разрушает
их призыв. Это не является методом "Савитри". Ее выражение
преследует своей целью определенную силу, направленность,
духовную ясность и реальность. Когда это непонятно,
то значит истины, выражаемые поэмой, далеки
от обычного ума или принадлежат непройденной дороге
или областям, или же входят в поле оккультного опыта, а
не потому, что имеется какая-то тяга к темной неопределенной
глубокомысленности или бегству от мысли. Это
мышление — не интеллектуально, но интуитивно или даже
более чем интуитивно: всегда выражающее видение,
духовный контакт или знание, приходящее через проникновение
в самую суть вещи, через отождествление.
Можно заметить, что более крупные романтические
поэты не избегали мышления; они думали много почти без
конца. У них есть свои характерные воззрения на жизнь,
которые можно было бы назвать их философией, их мироощущением,
и они его выражают. Китс был самым
романтическим из поэтов, но он смог написать: "Философствовать
осмелиться я не могу"; он не написал: "Во
мне слишком много от поэта, чтобы философствовать".
Очевидно, что он рассматривал философию как восхождение
на флагманский корабль, чтобы поднять чуть ли не
королевский стяг. Философия "Савитри" отличается, но
она постоянно присутствует: она выражает или пытается
выразить тотальное и многостороннее видение и переживания
всех планов бытия и их действия друг на друга.
Какой бы язык, какие бы термины ни оказались необходимыми,
чтобы передать эту истину виденья и опыта, она
без колебаний использует или допускает любой ментальный
закон и поэтический, и не поэтический. Она, не колеблясь,
применяет термины, которые могли бы считаться техническими,
если они могут раскрыть нечто непосредственное,
живое и могущественное. Это не значит,
что будет использоваться технический жаргон, т. е. специальный
и искусственный язык, выражающий в таком
случае лишь абстрактные идеи и обобщения без какой бы
то ни было живой истины или реальности в них. Такой
жаргон не может создать хорошую литературу, тем более
хорошую поэзию. Но существует "поэтизм", устанавливающий
санитарную преграду словам и идеям, которые
он считает прозаическими, но которые могли бы усилить
поэзию и расширить ее рамки, если их правильно использовать.
Такое ограничение я не считаю законным.
Я настаиваю на этих положениях из-за критики обозревателей
и других, причем некоторые, очень способные,
полагали или упрощенно констатировали, что в моих поэмах
слишком много мыслей и что в поэзии я даже больше
философ, чем поэт. Я подтверждаю право поэта думать,
также как видеть и чувствовать, его право "осмеливаться
философствовать". Я согласен с модернистами, восстающимии
против настаивания романтика на эмоциональности
и против его возражения мыслить и философски отражать
в поэзии. Но модернист пошел в своем бунте слишком далеко.
В попытке избежать того, что я могу назвать поэтизмом,
он перестал быть поэтичным; желая убежать от
риторического писания, риторической претензии на значительность
и красоту стиля, он отбросил саму поэтическую
значительность и красоту, отвернулся от тонкого
поэтического стиля и обратился к разговорному тону
и даже слишком примитивному писанию: во-первых, он
отвернулся от поэтической рифмы, перешел к прозе или
полупрозаичной рифме, или вообще отказался от нее. Он
также слишком перегрузил мысль и потерял привычку к
интуитивному взгляду; выгнав эмоцию из ее прибежища в
доме поэзии, он вынужден был, чтобы облегчить тяжесть
большинства, своих мыслей, ввести слишком много преувеличенных
низших витальных и чувственных реакций,
не преображенных или же преображенных только преувеличением.
Однако, возможно, он вернул поэту свободу
мыслить, также как и определенную непосредственность
и прямоту стиля.
Теперь я перехожу к закону, запрещающему повторения.
Этот закон стремится к определенной интеллектуальной
элегантности, которая приходит в поэзию, когда
начинают преобладать поэтический разум и требование
культурным развлечением и наслаждением высоко цивилизованного ума;
его интересует безошибочное искусство
слов, постоянное и разнообразное изобретательство, непрерывная
новизна идей, случаев, слов и фраз. Непогрешимое
разнообразие или внешнее проявление его — одна из
тонкостей этого искусства. Но это не вся поэзия
Ее закон не применим к таким поэтам, как Гомер, или
Валмики, или другие ранние писатели. Веды можно было
бы охарактеризовать как сплошные повторения; также
работы поэтов Вайшнавы и поэтической литературы
преданного служения, в основном, в Индии. Арнольд отметил
это, говоря о Гомере; он особенно упомянул, что нет ничего
противоестественного в частом повторении одного
того же слова в гомерическом стиле письма. Во многих
местах кажется, будто Гомер считает обязательным повторять себя.
Он использует описания, эпитеты, всего
повторяющиеся, целые строки, снова и снова повторяющиеся,
когда возвращается в его рассказе тот же самый
эпизод [...]
В мистической поэзии повторения также не запрещаются;
к ним обращались многие поэты, иногда настойчиво.
В качестве примера я могу привести постоянное
повторение слова Rtam, истина, иногда восемь или девять
раз в коротком стихотворении из девяти-десяти строф,
часто в одной и той же строке. Это не ослабляет стихотворения,
но придает ему единую силу и красоту. Повторение одних
и тех же ключевых идей, ключевых образов
и символов, ключевых слов и фраз, ключевых эпитетов,
иногда ключевых строк или полустрок — постоянная черта.
Они создают атмосферу, смысловую структуру, некий
сорт психологического фона, архитектуру. Цель здесь -
не услаждение или развлечение, но — самовыражение внутренней
истины, видения вещей и идей, далеких от обычного ума,
выявление сокровенного опыта. Здесь больше за
истиной, чем за новизной, стремится поэт. Он использует
avrtti, повторение, как одно из самых мощных средств,
чтобы привнести сюда то, что было передумано или увидено,
чтобы зафиксировать это в уме в атмосфере света
и красоты. Этот вид повторения я широко использовал в
"Савитри". Более того, целью является не только представить
тайную истину в ее истинной форме и истинном
видении, но также и довести ее до конца, найдя истинное
слово, истинную фразу, the mot juste, истинный образ
или символ, если возможно — неизбежное слово; если поставлена
такая цель, то повторение приобретает особое
значение. Это естественная вещь, когда повторение предназначается и
служит цели; но это может случиться непреднамеренно,
когда оно приходит в потоке вдохновения.
Поэтому я не вижу возражений против возвращения одного
и того же или подобного образа типа моря или океана,
неба или небес в одном длинном отрывке, при условии, что
каждое из них правильно и правильно звучит на своем месте.
То же правило применимо и к словам, и к эпитетам,
и к идеям. Только в том случае, если повторение неуклюжее
или грубое, слишком назойливое, в данном месте ненужное,
невыразительное или становится неприятным и
бессмысленным отзвуком — лишь тогда оно должно быть
отвергнуто.
... Я думаю, что все ваши возражения до единого возникали
передо мной с позиций определенного рода критики
во время написания или перепечатывания того, что я
уже написал; но я отстранил их, ибо счел несостоятельными
или несоответствующими этому виду поэмы. Так
что вы не должны удивляться моему несогласию с ними,
слишком незначительными и несостоятельными.
1946
Очевидно, что Сверхум, или Глобальный ум (Qvermind),
и эстетика не могут приравниваться друг к другу.
Эстетика, главным образом, касается красоты, а в более
широком смысле, rasa, отклика ума, витального чувства
и ощущения определенного "вкуса" вещей, который часто
может быть духовным чувством, но не обязательно.
Эстетика принадлежит сфере ментальной, и все эстетическое
зависит от этого; она может выродиться в эстетство,
или может преувеличивать, или ограничивать себя
некой версией теории "искусства для искусства". Сверхум —
это существенно духовная сила. В нем ум превосходит
свою обычную сущность и, возвышаясь, устанавливается
на духовное основание. Он охватывает красоту и
сублимирует ее; он обладает сущностной эстетичностью,
которая не ограничивается законами и канонами; он видит
универсальную и вечную красоту по мере того, как
он поднимается и преобразует все, что ограничено и частично.
Кроме того, он касается вещей, отличающихся
от красоты или эстетики. Он касается особенно истины и
знания или, скорее, мудрости, превосходящей то, что мы
называем знанием; его истина идет выше истины факта
или истины мысли, даже более высокой мысли, являющейся
первой духовной ступенью мыслителя. Он обладает
истиной духовной мысли, духовного чувства, духовного
ощущения. и, в пределе, — истиной, что приходит через
самое сокровенное духовное касание или — через отождествление.
В конечном счете, истина и красота приходят
вместе и совпадают, но до этой грани существует различие.
Сверхум во всех своих действиях вначале утверждает
истину; он выявляет сущностную истину (и истины)
вещей, также как и ее бесконечные возможности; он выявляет
даже сущностную истину, что лежит позади лжи
и ошибки; он выявляет истину Несознательного и истину
Сверхсознательного и всего того, что лежит между ними.
Когда он говорит через поэзию, это остается его первой
существенной особенностью; ограниченная эстетическая,
художественная цель не есть предел его стремлений. Он
может поднять и возвысить любой и каждый стиль или,
по крайней мере, поставить на нем свое клеймо. Более
или менее все, что мы назвали Сверхразумной (Overhead)
поэзией, имеет нечто от этой характеристики, будь она
от Сверхума или же просто интуитивная, просветленная
или сильная силой более высокой Мысли откровения; и
даже если это внутренне не является Сверхразумной поэзией,
все-таки какое-то касание может в нее и войти.
Даже сама Сверхразумная поэзия не всегда имеет дело с
тем, что является новым, ошеломляющим или необыкновенным;
она может поднять очевидное, обычное, пустое
или даже убогое, старое, даже то, что без нее кажется избитым и
банальным, — и возвышает все это к величию.
Возьмем строки:
1 spoke as one who ne' er would speak again
And as а dying man to dying mens.
Я говорил, как никогда не буду вновь,
Как умирающий идущим в смерть.
<Оригинальные строки таковы:
1 preached as never ваге to preach again!
And as a dying man to dying men.
Я проповедовал, как никогда!
Как умирающий идущим в смерть.>
Этот писатель — не поэт и даже не особо талантливый
стихотворец. Изъявление мысли — банальное и прямое,
а используемый риторический прием — простейший, но
касание Сверхразума каким-то образом проникло сквозь
страстную эмоцию и искренность и безошибочно присутствует.
Во всякой поэзии и в писателе, и в воспринимающем
должна быть некоего рода поэтическая эстетичность.
Но эстетика разнопланова, и обычный ее вид не достаточен
для того, чтобы оценить Сверхразумный элемент в
поэзии. Требуется некая основополагающая и универсальная
эстетичность, а также нечто более интенсивное, чем
то, что слушает, видит и чувствует из глубины и отвечает
тому, что находится за поверхностью. Тогда более
великая, широкая и глубокая эстетичность, способная ответить
даже на трансцендентальное или духовное, входит
в жизнь, ум и восприятие.
Занятием критического интеллекта является оценивать и судить,
и здесь также он должен судить; но он
может судить и оценивать правильно только в том случае,
если он научится видеть и чувствовать внутренне и
интерпретировать. Но для него опасно низвергать свои
собственные законы или даже законы и правила, которые,
как он считает, он может вывести из некоторой наблюдаемой
практики Сверхразумного вдохновения и использовать,
чтобы укрепиться в этом вдохновении; ибо он идет
на риск, когда он в Сверхразумном вдохновении перелезает
через стену и выходит обратно одичалый и с потерями.
Простой критический интеллект, не затронутый
более тонким видением, не на многое здесь способен. Мы
можем взять крайний случай, ибо в крайностях несовместимости
выступают более четко. То, что можно было
бы назвать джонсоновым критическим методом, очевидно,
здесь мало пригодно: метод, ожидающий точного логического
порядка мыслей и языка, и долбящий все, что
отстоит от "всамделишнего" или строгого, рационального
и идейного соответствия, или же от трезвого и ограничивающего
классического вкуса. И сам Джонсон явно
выпадает из своей стихии, когда он грубо расправляется
с одной из тонких шуток Грея, топчется и путается, рассуждая
насчет золотой рыбки в аквариуме поэта, круша
ее своими тяжелыми и злобными пинками. Но его метод
бесполезен и для любого вида романтической поэзии. Что
бы джонсоновский критик сказал по поводу знаменитых
шекспировских строк:
Or take up arms against а sea of troubles
And by opposing end them?
Или поднять оружие против моря слез,
Восстав, им положить конец.
<В оригинале:
Or to take arms against а sea of troubles
And by opposing end them>
Он бы сказал: "Какая мешанина метафор и смесь идей!
Только безумец мог бы поднять оружие против моря! Море
страданий — слишком надуманная метафора, и в любом
случае, никто не может победить море, восстав против
него; более вероятно, что оно покончит с вами". Шекспир
хорошо знал, что он делает; он видел эту смесь, как
и любой критик, и принял ее, ибо она привела к цели с
некой вдохновенной силой, которую более точный язык не
мог иметь, к точному чувству и идее, которые он хотел
выразить. Еще более будет напугано это джонсонианство
любой оккультной или мистической поэзией. Веды, например,
пользуются тем, что кажется умышленным и безрассудным
смешением, по крайней мере, ассоциацией несовместимых
образов, вещей, не вяжущихся друг с другом
в материальном, что у Шекспира является лишь случайным
отступлением. Что бы сделал джонсонианец с этой
Ведой: "Это великолепие твое, о, Пламя, что — и в небесах,
и на земле, и в растениях, и в водах и которым
заполнил ты просторы сокровенные воздуха — это живительный
океан света, видящего божественным видением?"
Он бы сказал: "Что за чушь? Как это может быть великолепие
света в растениях и водах и каким образом может
океан' света видеть божественно или как-то еще? В любом
случае, какое бы значение все это ни могло иметь, это-
бессмысленный мистический жаргон. "Но, помимо этих
крайностей, обычный критический интеллект, вероятно,
почувствует безвкусицу или непонимание в отношении мистической
поэзии, даже если такая поэзия идейно вполне
совместима и хорошо отточена лингвистически. Он обязательно
споткнется обо все, что противоречит его выводам
и оскорбляет его вкус: ассоциацию полярностей,
излишек, отрывочность или нагромождение образов, неуважение
к интеллектуальным рамкам мышления, конкретизацию
абстракций, рассмотрение вещей и сил так,
будто в них наличествует сознание или личность, и сотни
других отклонений от прямой интеллектуальной стези.
Невероятно также терпеть несоответствие в технике,
не уважающей каноны признанного порядка. По счастью,
модернисты со всеми их ошибками взломали здесь все старые
ограничения, и мистический поэт может быть более
свободным в конструировании своей собственной техники.
Здесь имеется пример по этому поводу. Вы ссылаетесь на
определенные вещи, которые я написал, и на уступки, сделанные
мною, когда вы печатали раннюю версию первых
книг "Савитри". Вы приводите в пример мою готовность
корректировать или обходиться без повторений слов или
диссонирующих звуков, таких как "magnificent" в одной
строке и "lucent" в другой. Верно, но я могу видеть, что
в то время у меня был переходный процесс от привычек
старого вдохновения и техники, которым я часто уступал,
к новому вдохновению, которое начало приходить. Я все
же пожелал изменить это диссонирующее звучание, но я
не захотел, как раньше, делать такой запрет фиксированным
правилом. Если следующие строки придут ко мне теперь:
His forehead was а dome magnificent,
And there gazed forth two orbs of lucent truth
That made the human air а world of light.
Его чело — приют великолепия,
Две истины лучились из глазниц,
Создав из воздуха мир света.
то я не отвергну их, но приму и "magnificent", и "lucent",
ибо они вполне на своем месте. Но такое принятие не
будет повсеместным; ибо если бы здесь было:
His forehead was а wide magnificent dome
And there gazed forth two orbs of lucent truth,
я бы не был готов принять это, ибо повторение звука в
одном и том же месте строки, нарушило бы правильное
ритмическое равновесие. В нынешней версии "Савитри"
я принял некоторые из свобод, введенных модернистами,
включая внутренний ритм, ассонанс слогов, нерегулярности,
вводимые в ямбический метр и другое, что было бы
болезненно для моего раннего вкуса. Но я использовал
это не как механический прием или манерность, но только
там, где это ритмически оправдано; ибо всякая свобода
несет в себе некую истину и порядок — либо рациональный,
либо инстинктивный, либо интуитивный.
1946
|